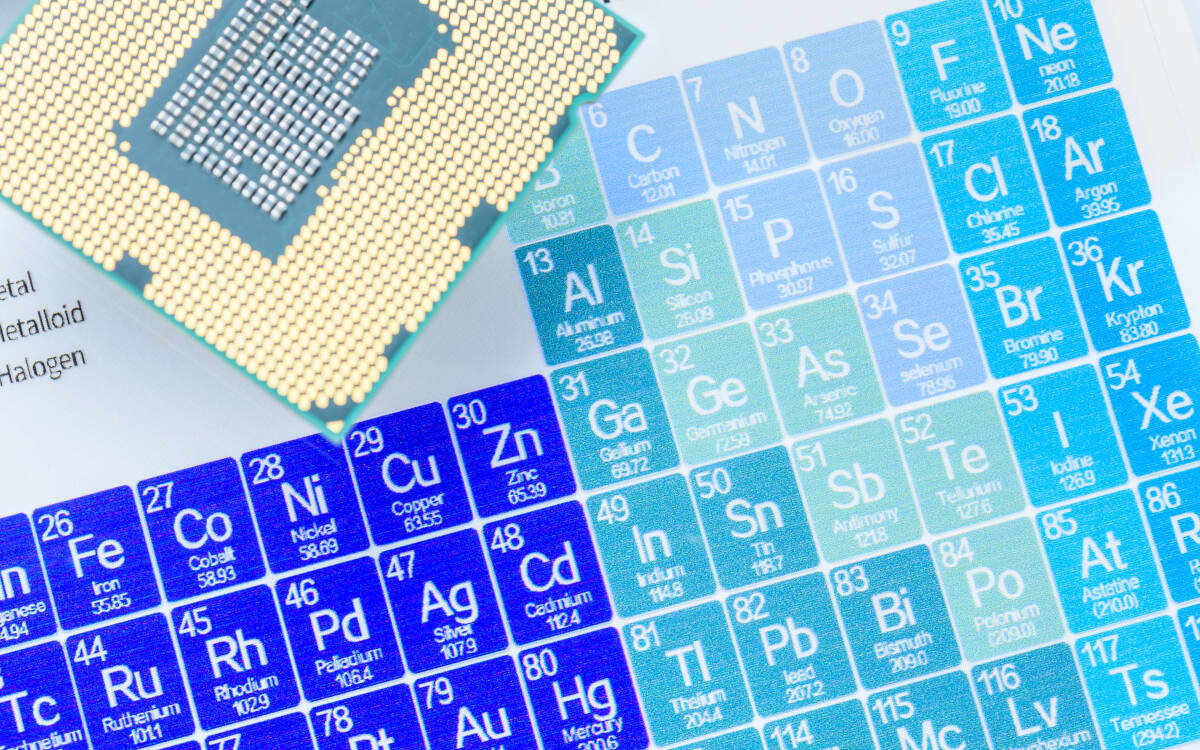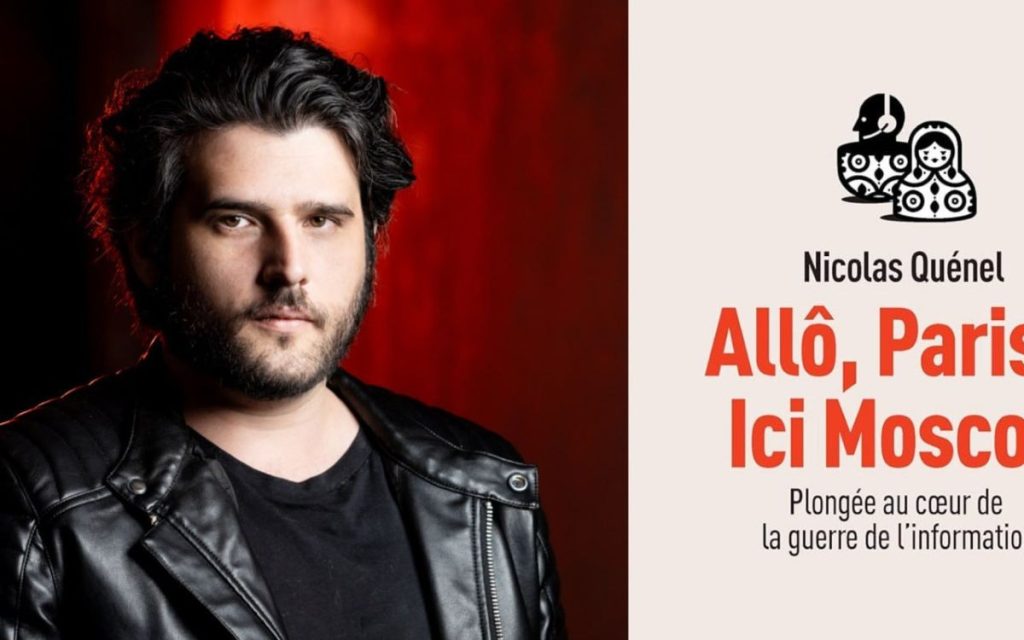На фоне решения Китая ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов, на долю которого приходится 90% рынка, и ответного желания Дональда Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары, вопрос о критически важных минеральных ресурсах и их логистике как никогда актуален в условиях становления многополярного мира.
Основы геополитической власти в настоящее время меняются чрезвычайно быстро. Мощь страны больше не измеряется только ее военной силой или экономикой, но все в большей степени ее контролем над критически важными минералами и энергией, необходимыми для современного мира. Эта динамика подпитывает возрождение ресурсного национализма и запускает глобальную гонку за безопасность цепочек поставок, превращая логистические маршруты в рычаги стратегического давления, а сырьевые товары — в инструменты внешней политики.
Возвращение ресурсного национализма: минералы как геополитический рычаг
Ресурсный национализм – политика, с помощью которой правительства утверждают свой контроль над природными ресурсами ради национальной экономической и политической выгоды, – вернулся с новой силой. В отличие от нефтяных шоков 1970-х годов, современная версия сосредоточена на новом типе ресурсов: критически важных минералах, таких как литий, кобальт, редкоземельные металлы и медь. Почему? Потому что они являются элементарной основой для «зеленого» энергетического перехода, цифровой инфраструктуры и передовых оборонных систем. Без этих минеральных ресурсов ни одна страна не может оставаться в гонке, будь то энергетика, экономика или оборона.
При этом страны, обладающие этими минеральными ресурсами, перестали быть пассивными экспортерами сырья. Теперь они используют свой геологический капитал в стратегических целях.
Так, Китай навязал свою гегемонию в глобальных цепочках поставок редкоземельных металлов благодаря многолетней стратегии консолидации их добычи, переработки и производства. Эти минеральные ресурсы необходимы для всей электроники. Без них не было бы мобильных телефонов, компьютеров, электромобилей, управляемых боеприпасов, истребителей, радаров, медицинских лазеров, сканеров или ядерных реакторов. Можно сказать, что без редкоземельных металлов страна отбрасывается на столетие назад в технологическом плане.
В настоящее время Китай по-прежнему контролирует почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов, от 85 до 90% их переработки и 90% производства из этих металлов магнитов, критически важных для вышеупомянутых технологических применений. Эта практически бесспорная гегемония предоставляет Пекину крупный геополитический рычаг. И становится понятнее нервная реакция Дональда Трампа, когда Китай решил ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Теперь Пекин может буквально решать, какие страны смогут продолжать развивать свою экономику, а какие будут заторможены в технологическом плане.
Любопытно, что введение этих экспортных ограничений только сейчас связано с тем, что до недавнего времени Китай на 95% зависел от импорта гелия из США. Этот газ необходим для охлаждения машин ультрафиолетовой литографии, используемых в производстве полупроводников. Без гелия Китай не мог производить полупроводники с низким показателем нанометров. За четыре года Пекин нарастил местное производство и диверсифицировал источники поставок (в основном Россия и Катар). И именно благодаря этой диверсификации Китай смог вернуть себе технологический суверенитет и позволить ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на экономическую войну, объявленную ему Соединенными Штатами.
Редкоземельные металлы — не единственные незаменимые ресурсы для современного образа жизни. Литий также входит в их число. Вдохновленные ОПЕК, крупные страны-производители лития, такие как Чили, Аргентина и Боливия, рассматривают возможность формирования «ОПЕК для лития» для координации цен и политики управления и экспорта этого ресурса, необходимого для производства электромобильных аккумуляторов.
Некоторые страны используют ограничения на экспорт минеральных ресурсов не столько как геополитический рычаг, сколько как экономический. Например, Индонезия, крупнейший в мире производитель никеля, запретила экспорт сырого никеля, чтобы заставить иностранные компании инвестировать в местные плавильные и аккумуляторные производства, захватывая таким образом большую часть цепочки формирования стоимости.
Другие проводят политику экономического патриотизма, используя эти минеральные ресурсы как средство улучшения благосостояния своего населения. В Африке, например, от медных рудников Замбии до кобальтовых месторождений Демократической Республики Конго правительства пересматривают контракты, увеличивают комиссионные и требуют местного участия, чтобы гарантировать, что их население получит более непосредственную выгоду от их природных богатств.
Эта твердая позиция государств, богатых ресурсами, представляет собой фундаментальный вызов для крупных промышленных держав, заставляя их пересматривать весь свой подход к безопасности поставок критически важных минералов.
Гонка за обеспечение безопасности цепочек поставок в раздробленном мире
В ответ на эти процессы возрождения ресурсного национализма со стороны стран глобального Юга Соединенные Штаты, Европейский союз и их союзники лихорадочно стремятся снизить риски и диверсифицировать свои цепочки поставок, уводя их от геополитических соперников и нестабильных регионов.
Для этого данные страны прибегают к различным стратегиям и методам. Первая — строить цепочки поставок с дружественными нациями или соседними странами. Яркий пример — «Партнерство по обеспечению безопасности минералов» под руководством США, которое направлено на создание параллельной, свободной от Китая цепочки поставок критически важных минералов.
Вторая стратегия — пополнение стратегических национальных запасов и предоставление массовых субсидий, подобных тем, что предусмотрены американским «Законом о снижении инфляции», чтобы стимулировать компании инвестировать в внутреннюю добычу и переработку необходимых минералов.
Наконец, третья используемая стратегия — инвестиции в альтернативы. Таким образом, Запад значительно инвестировал в переработку, а также в исследования в области материаловедения для поиска заменителей и разработку новых горных проектов в политически стабильных юрисдикциях, таких как Канада и Австралия.
Этот раскол глобальных цепочек поставок на конкурирующие сферы влияния — не просто вопрос торговой политики; это центральная характеристика нового многополярного мирового порядка, где экономическая взаимозависимость используется как оружие.
Битва за логистические маршруты
Поскольку цепочки поставок реорганизуются, крупные мировые логистические коридоры – как старые, так и новые – стали аренами острой конкуренции и точками уязвимости. Надежность этих маршрутов теперь является первостепенной стратегической заботой.
Новый шёлковый путь (НШП) — колоссальный инфраструктурный проект Китая — является самой амбициозной попыткой перекроить мировую логистику за последнее столетие. Строя порты, железные и автомобильные дороги через Азию, Африку и Европу, Китай стремится создать безопасные торговые пути, ориентированные на себя.
Однако НШП не лишена рисков. Некоторые страны обвинили Китай в том, что он вверг их в неустойчивую долговую зависимость, приведшую к потере суверенитета (как, например, с портом Хамбантота в Шри-Ланке). Кроме того, эта инфраструктура создает долгосрочную стратегическую зависимость, давая Пекину рычаг давления на страны транзита. И, наконец, что не менее важно, НШП проходит через страны Запада, подчиненные Вашингтону, а также через некоторые из самых политически нестабильных регионов мира, что создает риск нарушения потоков товаров.
Недавний пример произошел в этом месяце, когда Польша закрыла на 13 дней свою границу с Беларусью в знак протеста против совместных военных учений последней с Россией. Это закрытие границы имело побочный эффект в виде блокировки 90% китайских грузов, предназначенных для Европы, вынудив Китай адаптировать маршрут (перевозя грузы морем из Санкт-Петербурга в Гамбург, Германия), чтобы обойти Польшу!
Подобные злоключения делают Северный морской путь (СМП) все более привлекательным. В условиях таяния арктических льдов Россия активно продвигает этот логистический путь как более быстрый «Северный Суэц». Он предлагает на 40% более короткий путь между Азией и Европой (СМП составляет 14 000 км против 23 000 км через Суэцкий канал) и находится под российским контролем. Неудивительно, что Россия и Китай ежегодно увеличивают объем грузов, перевозимых по Северному морскому пути, даже в условиях, что пока его доля остается небольшой по сравнению с конкурирующими логистическими маршрутами. Стоит сказать, что, как и все остальные маршруты, он не лишен недостатков. СМП требует дорогих ледоколов и судоходен лишь часть года. Кроме того, создание этого пути ведет к милитаризации Арктики, превращая ее в новую зону соперничества между НАТО и Россией.
Со своей стороны, Суэцкий канал остается постоянным узким местом. После посадки на мель контейнеровоза Ever Given в 2021 году, парализовавшей 12% мировой торговли, атаки йеменских повстанцев с конца 2023 года на суда, связанные с Израилем, США или Великобританией в Красном море, привели к резкому снижению морского трафика через Суэцкий канал (в начале 2024 года транзит упал на 50%, а для контейнеровозов — на 90%). В результате крупные судоходные компании предпочитают терять дополнительные 7-14 дней в пути, огибая Африку с юга, чем рисковать на этом маршруте. Это иллюстрирует, насколько уязвимость Суэцкого канала для региональных конфликтов остается системным риском для мировой экономики.
Трудный путь к новому равновесию
Сближение ресурсного национализма и логистических вызовов, связанных с фрагментацией мира, делают его все более непредсказуемым. Компании сталкиваются с волатильностью цен, политическим вмешательством и угрозой внезапных срывов поставок. Для стран задача заключается в обеспечении жизненно важных ресурсов для их экономического выживания и технологического превосходства, не доводя дело до конфронтации, которая еще больше расколет мировую экономику.
Путь вперед требует тонкого баланса: способствовать созданию устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок через международное сотрудничество, одновременно ведя диалог с правительствами, ограничивающими доступ к своим ресурсам, для заключения взаимовыгодных соглашений. В этой новой многополярной конфигурации мира победителями окажутся те, кто сможет не только обеспечить себя необходимыми минеральными ресурсами, но и безопасно их транспортировать. Ведь битва за критически важные минералы — это также и битва за контроль над логистическими маршрутами.
Кристель Нэан